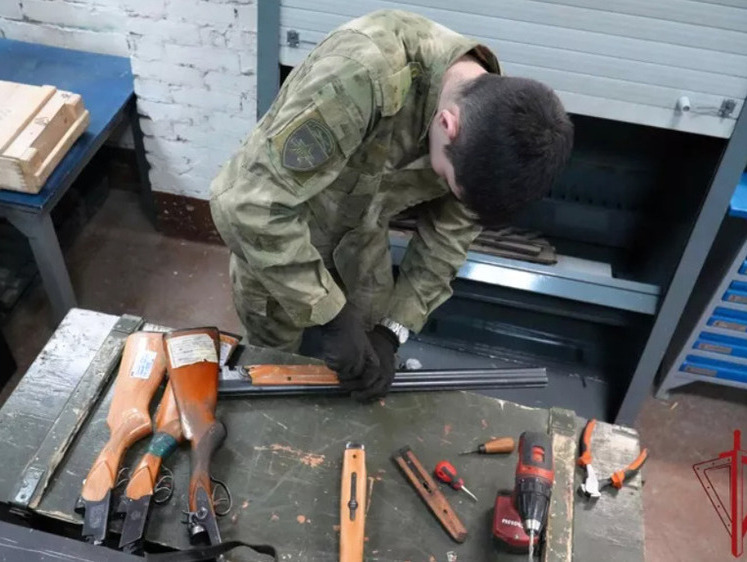Рассматривая отдельные хронологические срезы в истории Дагестана, нетрудно отметить, что XVIII век по насыщенности и разнообразию происшедших в течение этого столетия событий, по количеству выдвинувшихся в это же время из среды дагестанцев выдающихся деятелей – военачальников, руководителей народных движений и государственных деятелей (правителей) и получивших всеобщее признание ученых-алимов занимает исключительное место.
Исторический экскурс
В течение XVIII в. в Дагестане скрестились военно-политические интересы таких крупных государств, как Россия, Иран, Турция, а также соседней Грузии. Именно в XVIII в. объединенными силами дагестанских народов был разгромлен (в 1742 г.) «гроза вселенной» иранский Надир-шах, пытавшийся захватить Дагестан и закабалить дагестанские народы.
В XVIII в. Дагестан дал таких выдающихся личностей – военачальников и предводителей, руководивших борьбой дагестанцев за свою независимость и свободу, как Сурхай-хан 1 Кази-Кумухский, Хаджи-Дауд Мюшкурский, Ибрагим-Хаджи Урадинский, Хан-Муртазали Кази-Кумухский, Умма-хан Аварский и др.
Однако при всей суровости жизни и трагичности происходивших в то столетие событий в Дагестане XVIII век в его истории является ярким свидетельством величия духа и стойкости дагестанских народов, так как при самых тяжелых условиях тогдашней действительности здесь продолжалась активная интеллектуальная жизнь, именно в этом веке творили многие из знаменитых дагестанских ученых-алимов: Мухаммад Кудутлинский, Мухаммад Убринский, Абубакар Аймакинский, Дауд Усишинский, Дамадан Мегебский, Мухаммад Ярагский, Джамалудин Кази-Кумухский и другие. В этой когорте выделяется и Дибир-кади Хунзахский, который был ученым разносторонних интересов, крупным государственным деятелем, пользовался большим авторитетом среди ученых. Они получили признание и за пределами своей родины, были известны в исламском мире. Представители дагестанской «арабо-мусульманской» науки – алимы – являли собой общедагестанскую, наднациональную интеллигенцию, они были представителями науки не того или иного из дагестанских народов, а представителями общедагестанской науки. В этой связи вспоминаются слова А. Мюллера, высказанные им в «Истории ислама» в 80-х гг. XIX в. о том, что средневековые ученые мусульманского мира, независимо от того, в каком из государств они жили, считали себя учеными всего исламского мира. Перефразируя эти слова, мы можем сказать: дагестанские алимы были учеными дагестанскими. Не представляются корректными утверждения, что Мухаммад Кудутлинский – аварский ученый, Мухаммад Убринский – лакский ученый, Дауд Усишинский – даргинский ученый и т. д. Такими утверждениями мы принижаем их роль в истории дагестанской науки. Они представляли единое общедагестанское научное и образовательное пространство. Именно стараниями таких дагестанских алимов, помимо и других факторов исторического, географического характера, в Дагестане возникло единое культурно-историческое пространство, в котором интенсивно проходили процессы интеграционного характера в жизни и культуре, в том числе и художественной (поэтической), дагестанских народов.
В этом едином культурно-историческом пространстве шли процессы взаимовлияния и в области художественных словесных культур, и возник довольно большой фонд «общих» народно-поэтических произведений. При этом выделились и зоны, в которых распространены такие произведения, ср. целый ряд исторических песен и баллад, известных среди аварцев, даргинцев и лакцев.
В русле таких культурных связей следует рассматривать и выявляемые двусторонние связи, которые являются частным случаем взаимодействия культур дагестанских народов. В таком плане следует рассматривать бытующие у аварцев и лакцев одинаковые, «общие» народно-поэтические произведения. В таких произведениях отмечаются не только одинаковые сюжеты, но и очень близкие меж собою варианты одних и тех же исторических песен и баллад.
Единство литератур
Среди распространенных у обоих народов поэтических произведений отметим такие, как «Хочбар» («Ххучилав»), «Песня о разгроме Надир-шаха», цикл «Песни о набегах», «Камалил Башир» («Камалул Баши»), «Песня о Кайдаре», «Сестра Сулеймана» («Брат Сулейман»), «Красавец Салман», «Песня Герги», «Али, оставленный в ущелье», «Красавица Ашура», «Каримил Хаджи» («Алил Магомед»), «Песня о Бук-Магомеде» и др. Подобного рода «общие» поэтические произведения возникли в процессе взаимовлияния и взаимопроникновения народно-поэтических произведений от одного народа к другому. Соответствующий историко-филологический анализ позволяет выяснить, у какого народа первоначально возникло то или иное произведение, в данном случае у аварцев или лакцев. Учет факторов исторического, лингвистического и географического порядка позволяет прийти к заключению, что целый ряд из них был первоначально создан в аварской среде. К ним относятся «Хочбар», большинство из «Песен о набегах», «Камалил башир», «Песня о Герги» и др. Лакские истоки выявляются в аварских произведениях «Песня о Хадаре», «Зардухил Али», «Бук-Магомед» и др.
Обращает на себя внимание тот факт, что аварско-лакские культурные связи в области народно-поэтических произведений выявляются в эпических песнях, относящихся к XVIII в. И в этом отношении временные рамки того столетия сказались весьма богатыми процессами взаимодействия культур соседних народов, как и в отношении насыщенности событиями военно-политического характера.
Особое место в аварско-лакских культурных связях, относящихся к событиям XVIII века, занимает широкое представление в народной поэзии этих народов произведений, относящихся к циклу так называемых Песен о набегах.
Этот цикл связан с т. н. дагестанскими набегами в Грузию, в особенности в Кахетию (Восточная Грузия) в XVIII в. В Грузии эти события называют лекIианоба («дагестанство»), «набеги леков» (т. е. дагестанцев).
Особой близостью меж собою отличаются лакские и аварские варианты «Песен о набегах». Как было отмечено, лакские варианты в большинстве случаев восходят к аварским и максимально близко воспроизводят исходный аварский текст. В лакских вариантах очень точно переданы устойчивые поэтические выражения, характерные для аварского языка, в особенности эти моменты проявляются в лакских песнях «Маллачил Иса» и «Илдар Нажмуттин», которые во многом повторяют фрагменты из аварской «Песни о Хромом Ражбадине».
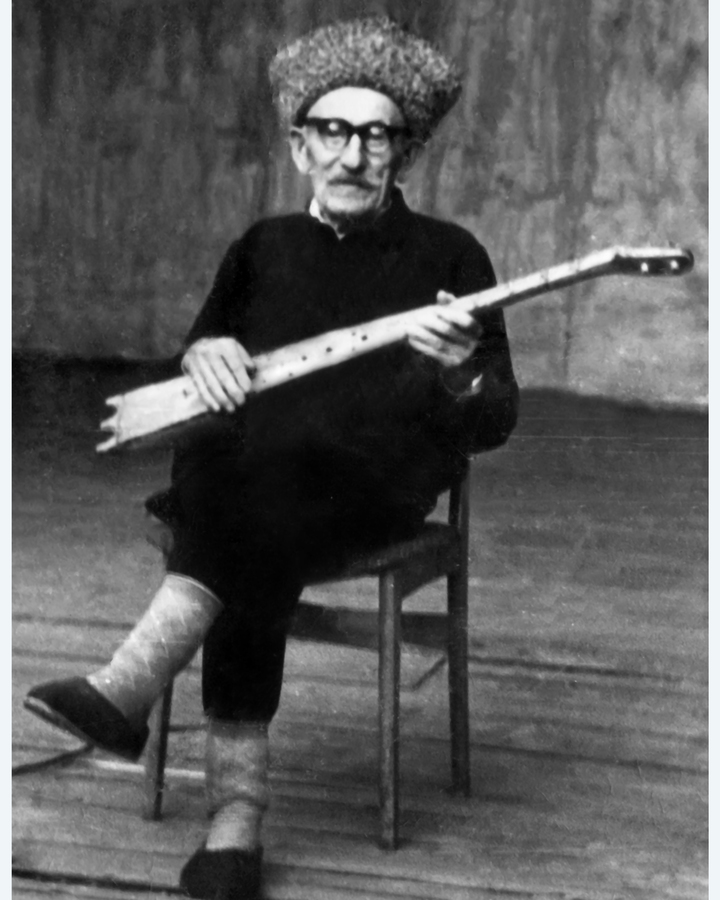
Несомненно, что в процессе лексико-семантического взаимодействия аварского и лакского языков в организации художественного текста сложились определенные традиции, способы и приемы передачи особенностей поэтической и образной системы одного языка на другой.
Очень много идентичных «переложений» из аварских текстов наблюдается в лакских вариантах песен о набегах. Отметим ряд таких мест:
1. Авар.: Бисмиллагьги абун, чоде вахиндал,
ХIурулгIинзабаца хIотIочIел ккурав.
Садясь на коня, сказал: «Во имя Бога»,
Гурии же держали ему стремя»
Лак.: Салаватгудуртун, бурттиикIайни,
ЧчармузивдургьунахIурулэнтурал
2. Авар.: Алазанги къотIун, Къарбиги бахун…
Переправившись через Алазан, перейдя Карби (Иори)…
Лак.: Аьлазангулавхъун, Кьавругубивтун….
3. Авар.: Гьаб гьитIинаб къокъа киса-шибабун,
Къокъадул ццевехъан шиб росолъаян?
Гьаб гьитIинаб къокъа белехь гинансал,
Къокъадул ццевехъан Рекъав Ражбадин.
Этот маленький отряд откуда будет,
Отряда предводитель из какого аула?
Этот маленький отряд балаханцев с унцукульцами,
Предводитель отряда Хромой Ражбадин.
Лак.: МучIириссакьюкьачасса дури тIий,
МукьюкьлулцIивикъанчассауритIий?
ВачIириссакьюкьаИгьаллалвирттал,
КьюкьлулцIивикъангу Илдар Нажмуттин (// МаллачилЭса).
4. Авар.: ТуманкIул харица михъалги чIурхIун…
Ружейным порохом усы опалив…
Лак.: А(гъ)зиятралцIаралссирссилттуччучлай…
5. Авар.: Цо гьари гьабуна Ражбадиница…
Одну просьбу (молитву) сделал Ражбадин…
Лак.: Заннайнгьарибувна та Нажмуттиннул…
6. Авар.: ВачIа, ле Ражбадин рекъел гьабизин…
Ступай сюда, Ражбадин, заключим мир…
Лак.: Нану, дакьаву да, Илдар Нажмуттин…
Следует также отметить, что в аварских и лакских эпических песнях этого цикла нередки одинаковые устойчивые образные выражения, эпитеты, своеобразные «штампы» и т. п., ср.: гьитIинаб къокъа – чIарасса кьюкьа («маленький отряд»), къокъадул ццевехъан – кьюкьлул цIивихъан («предводитель отряда»), хIаму лгуржиял – ттукку гуржи («ненавистные, букв. «ослиные», грузины») и др.
4. В организации художественного текста в общих народно-поэтических произведениях важную роль играет ономастическая лексика – имена персонажей и топонимы. При их передаче («переводе») выявляются определенные закономерности, обусловленные языковыми особенностями. В связи с этим нуждается в «расшифровке» ряд собственных имен, представленных в лакских вариантах произведений.
5. Имя известного фольклорного героя «Песни о Хочбаре» Ххучилав (Ххучулав) является вариантом авар. Ххучубар (Ххучбар), которое было адаптировано в лакском языке в виде полукальки с заменой элемента -бар патронимическим элементом -лав (заимст. из авар.) со значением «сын», т. е. «сын Хучи». Ср.: авар. Хундерил ханасул хабар бачIана / Гьидерил Хучубар Хунзахъе щвеян «От Хунзахского хана весть пришла, чтобы Гидатлинский Хочбар приехал в Хунзах»; лак. Ярттал Оьмахан налхаваргьанбуври / БатирХхучилавлухьцачIаннанутIий «Яртахский (Хунзахский) Умахан послал весть, предлагая герою Хучилаву приехать к себе».
6. В песнях о набегах фигурируют имена (Рекъав) Ражбадин «(Хромой) Ражбадин» и Хъараш МухIама «Хараш Магома» у аварцев, Маллачил Эса (Маллачилав) «Иса сын Маллачи» у лакцев. В материалах А. Каяева по лакскому языку и истории (изд. в 2010 г.) представлена песня из цикла о набегах «Илдар Нажмуттин», которая является вариантом аварских песен о Хромом Ражбадине и Хараш Магоме и лакской о Маллачил Иса.
В лакском варианте песни имя Ражбадин замещено соответствующей формой Нажмуттин, т. е. они представляют собою имя одного и того же персонажа песни о набегах. Что же касается первого компонента Илдар в двусоставном (на первый взгляд) имени Илдар Нажмуттин, то он в данном случае выступает не как собственное имя (как первый компонент сложного имени), а как определение к имени Нажмуттин, ср. авар. рекъав, «хромой» в (Рекъав) Ражбадин.
В словосочетании Илдар Нажмуттин слово илдар означает «предводитель», что является точным переводом на тюркский (кумык., «чагат.» – ?) язык авар. слова ццевехъан «предводитель», т. е. Илдар Нажмуттин (в переводе с авар. песни о «(Хромом) Ражбадине» означало «Предводитель Нажмуттин». Ср. авар. Къокъадул ццевехъан рекъав Ражбадин «отряда предводитель – хромой Ражбадин»; ВачIа, ле Ражбадин, рекъел гьабизин «Ступай сюда, Ражбадин, заключим мир!» – Лак. Нану, дакьаву да, Илдар Нажмуттин «Давай (приди), Илдар Нажмуттин, заключим мир!». В лак. Илдар Нажмуттин имеем точную передачу авар. Ццевехъан Ражбадин.
7. Известное у аварцев «Гергил кечI» («Песня Герги») у лакцев известно как «Ккурккихассабалай» («Песня о Курки»). Эта песня возникла у аварцев, точнее у чохцев, у которых издавна бытовало предание о живших в соседстве Герги и Панусе. О содержании песни и предания писал еще в 80-х гг. ХIХ в. О. Каранаилов в статье «Аул Чох» (см.: СМОМПК. Вып. ХIV). Лакский вариант этой песни, записанный в 1974 г. в с. Ури (в соседстве с андалальцами), представляет собою переизложение, но весьма близкое к оригиналу, авар. «Песни Герги» на лакский язык. Но при этом, в отличие от многих «общих» аварско-лакских эпических песен, в этих вариантах использованы разные размеры стиха: в аварском – четырнадцатисложный, а в лакском переводе – одиннадцатисложный. Ср.:
Вонугила, вадир вас, …дуе гъоркь чIейбатила – Магьара, ххираарс, луркIанлякъайча «Не ходи, мой сын (родимый), то засаду найдешь»;
Пиридил пархи буго сухмахазул ракьанда, / Зобалъул гъугъай буго дал гургинал гухIазда «Блеск молний, вижу я, у начала горных троп. Гром гремит, слышу я, на круглых на тех холмах» – ЦIупартIундиркIуназунтталбакIурдай / Къув-аьстIунбивкIунабакIурдалчулух«Молния стала сверкать на горных вершинах, / Гром стал греметь со стороны вершин».
Хотя лакский вариант является переложением аварского и при этом использован другой стихотворный размер, содержание передано точно, и довольно часты текстовые совпадения. Отметим ряд таких фрагментов.
Авар.: Киндай-щибдай инабун / Данде яхун йикIарай:
Кидалго накал ссукIчIев / Эбел хваяв багьадур,
Вай, велъенев вихьула, / Росдал рехьед цебегъун,
Илае тупанкI гIунтIун, / ГIонсое хвалчен гIунтIун.
Узнать о случившемся / Ему навстречу пошла:
Никогда не гнул колен / Молодец, да умрет мать! –
Идет – ружье вместо палки, / Вместо посоха – клинок.
Лак.:ХьумуркIулбувантIийхьхьичIунлирчусса –
Ликри, кьянкьассия, бавадирчIивул,
Аьрклийнайххалхьуриаьзизссаттуларс,
ТтуршалкIанай – мажар, аьсав – мисри тур.
Авар.: Нежер гьеб ругънадаса / Дур вас вахумоккани,
Ясги кьун, дурц лъунхьихьла / ЧIухIараб нежер кьолбад.
Если вдруг от раны нашей / Излечится твой сын,
Будет зятем – отдам дочь / И примем в наш славный род
Лак.: Агарщавурдая вил арсхъинхьурчан,
Булуннужула душ, хъункъатрал анну.
Обращают на себя внимание оба варианта имени героя – авар. Герги и лак. Ккуркки – и их взаимоотношение. Несомненно, они варианты одного и того же имени. Исходным является авар. Герги, которое давно бытует у аварцев, а по происхождению восходит к груз. Гиорги. Оно могло выступать и как обозначение грузина. Лакский вариант Ккуркки является закономерной передачей авар. Герги, хотя в лакском языке оно (Ккуркки) фонетически совпадает с прилагательным ккуркки-(сса) «круглый» (для соотношения авар. ги лак. кк ср. авар. горде – лак. ккуртту, «рубаха; бешмет», а для е (и) – у ср. авар. цIеххизе – лак. цIуххин «спросить»). Вероятно, и встречающееся у лакцев мужское имя Ккуркки можно рассматривать как грузинское, но проникшее через аварский язык.
Процессы взаимовлияния и взаимодействия культур народов Дагестана и прослеживаемые при этом тенденции интеграционного характера в выработке общедагестанских черт заслуживают самого пристального внимания ученых-дагестановедов, так как подобные явления в истории наших народов свидетельствуют о единстве и общности их исторических судеб, а такие научные изыскания будут способствовать сохранению и развитию общедагестанских духовных ценностей.