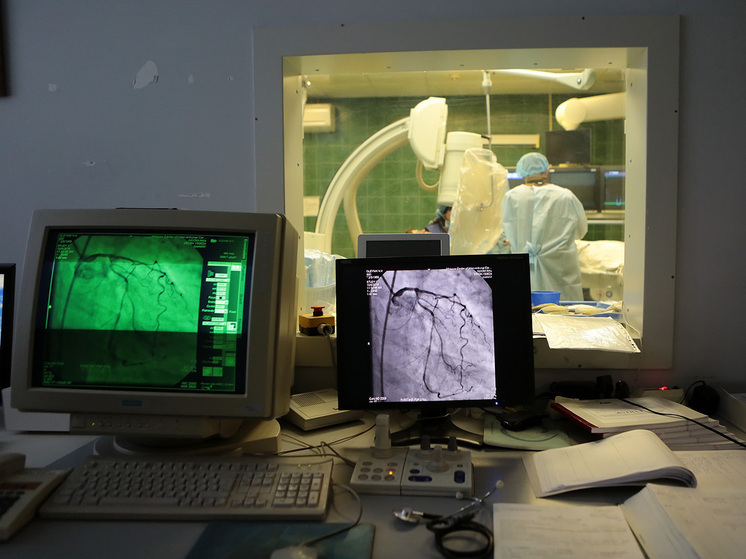Обойти их стороной при изучении прошлого этих стран было бы неправильно, поскольку означало бы игнорирование исторической действительности. Однако и при освещении этих фактов необходимо отделить объективную реальность от поздних наслоений, интерпретаций, а также вольных и невольных искажений.
Немного о Тушети
Прежде чем приступить к основному вопросу статьи хотелось бы вкратце ознакомить читателя с регионом, о котором пойдет речь в статье. Тушети – это горный регион на стыке границ Грузии, Чечни и Аварии (Дагестана), занимающий 896 квадратных километров верховий реки Анди-ор (Андийское Койсу). Согласно грузинским источникам, «тушины и дидойцы хотя входили в состав удела Лекоса», то есть этнарха аварцев и других дагестаноязычных народов, но потом были покорены грузинскими царями. Имеются также данные об инфильтрации в среду тушин грузинских горцев из соседних регионов. В Тушети «значительную часть населения составляли выходцы из Хевсуретии и Пшавии. Переселение их было одним из путей внедрения культа их божеств в Тушети». В частности значительную популярность в Тушети приобрел «Лашарис-Джвари» – всепшавский покровитель.
Возвращаясь к основной теме нашего исследования, отметим, что одним из наиболее сложных вопросов при изучении аваро-тушинских отношений является история одного военного похода аварского нуцальского дома в Тушети в ХVI в., который мы решили разобрать более подробно. Неверные интерпретации вокруг этого похода доходят до того, что некоторые авторы переносят его на 200 с лишним лет позднее и приписывают его осуществление совершенно другим лицам, при этом безапелляционно превращая фольклорных героев в реальных исторических персонажей. Приведем один характерный для таких интерпретаций отрывок: «Омар-хан с 20-тысячным войском напал на Грузию в 1785 г. Он через Карагаджи, перейдя р. Алазани, грозно продвигался к Картли… По поручению Омар-хана один отряд дагестанцев под предводительством Нуцал-хана направился в Горную Тушети». Не избежал ошибок и известный исследователь исторического прошлого Тушети – А. Шавхелашвили. Приводя вышеуказанную цитату, он безоговорочно ей доверяет и более того, продолжает повествование: «По плану Нуцал-хана, он намеревался одним набегом взять Тушети и наложить на жителей дань; кроме того, по плану завоевателей, в Тушети должны были построить мечети и распространить мусульманство среди горцев. Нуцал-хан послал своих к хевисберу Тушети Девдрис-Анта, чтобы поделиться с ним своими планами; Девдрис-Анта потребовал некоторое время на то, чтобы обдумать предложение. В то же время Девдрис-Анта сообщил царю Кахети Левану о создавшемся положении. Леван послал в Тушети вспомогательное войско. При встрече с Девдрис-Анта Нуцал-хан заметил по ту сторону какой-то свет, однако его успокоили, сказав, что там лишь пастух. Нуцал-хан, несмотря на то что при нем было его большое войско, все же боялся предательства, однако Девдрис-Анта убедил его в своей искренности. Тогда Нуцал предложил завтрак. В это время объединенное войско тушин и кахетинцев напало на Нуцала и застигло врасплох. Этот эпизод описан в народном фольклоре. В этом неравном бою, несмотря на малочисленность, грузинское войско одержало победу над врагом».
Комментируя приведенные отрывки, не можем не указать, что часто повторяющаяся даже в современных исследованиях форма имени аварского нуцала Умахана Великого – Омархан – является неправильным искажением имени ГIумахан, которое образовалось от традиционного аварского ГIума (другие варианты: ГIумалав, ГIама) с прибавлением монгольского по происхождению титула (хан), и никакого отношения к арабскому имени Омар не имеет. Во-вторых, в Аварии не было нуцала с именем Нуцал-хан – это всего лишь одна из форм обращения аварцев к своему правителю с дублированием исконного титула (нуцал) и привнесенного извне (хан). То есть это не имя, а титул, и частое приведение в исторических исследованиях имени Нуцал-хан, особенно характерное для закавказских авторов, некорректно, так же как если кахетинского царя Ираклия II называть просто мепе (груз. – «царь»). Не обращая внимания на прочие детали, вызывает искреннее недоумение то, с какой легкостью А. Шавхелашвили делает современниками царя Левана, жившего в ХVI веке (правил в 1520–1574 гг.), и Умахана, жившего в конце ХVIII в., зная о времени правления обоих исторических личностей.
Народный фольклор
Лингвист и этнограф Г. Цоцанидзе, сам по происхождению тушин, родившийся в 1937 г. в сел. Квемо Алвани Ахметского района, в своем историко-этнографическом труде по Тушети приводит весьма ценный полевой материал по данному сражению, записанный со слов тушина Габро Цадзикидзе: «Однажды вступил в Гиреви предводитель кистин Нуцал с огромным войском. Занял село да еще разослал по всем деревням своих людей – требует дани: давайте, говорит, по одной девушке с каждого села, не то разрушу все, камня на камне не оставлю. Собрались тушины и судят: как быть, что делать? Решили, что одни с этим войском не справимся, мол, нужно просить царя о помощи, и послали к нему одного гомецарца: «Богом клянемся, трудно нам, пошли нам людей на помощь». А к Нуцалу послали стариков: дай, мол, нам время, чтобы собрать дань в селениях. Тот, конечно, согласился, а за это время подоспела помощь из Кахети. У Накаичо разбили свой стан кахетинцы и тушины, а за рекой, на равнине Гиреви, стоит войско Нуцала. Решили начать с поединка лучших воинов. От кистин вышел сражаться сам Нуцал, со стороны тушин – один кахетинец. Андарезом его звали, Андарезом Сагинашвили. Царь, оказывается, держал его в тюрьме, а когда направил войско в Тушети, освободил его и послал туда. Хорошим воином он был, оказывается, очень удалым. Вышли они сражаться, сошлись посередине Алазани. У коня Андареза, оказывается, подпруги были из шелковых ремней, а у Нуцалова коня – кожаные. Когда шелк намокает, сильнее стягивается, а кожаный ремень, наоборот, расслабляется. Вот и свалился Нуцал в воду. Убил его Андарез и пустил тело вниз по реке. Налетели потом на кистин тушины и кахетинцы и перебили всех, ни одного в живых не оставили, чтобы весть до своих донести. Много песен было про этого Андареза, но не помню я их хорошо:
«...Кто войдет сражаться в воду, кто с Нуцалом биться смеет? Андарез в рубахе синей, видно, жизни не жалеет, Зарубил вождя кистинам, край шатра Нуцала взрезал славный меч Накудаури, меч короткий Андареза».
Другие стихи подробнее рассказывают о тех событиях:
По Качу-горе сползает рать великая Нуцала,
Вниз стекает словно к соли с горных круч овец стада,
Перешла в поля Гиреви, и земли не видно стало,
Затопила всю равнину, как затор прорвав, вода.
– С каждого села по деве! – В села вестников послали,
– Нужно дать, – одни сказали, – нам не выиграть тот спор,
– Не дадим мы дев кистинам, – им другие отвечали,
– Засмеют друзья с врагами, и не смоем мы позор.
В Кесело узнала дева, рассуждают как тушины,
Прокляла своих собратьев: «Иль храните честь мою,
Или деве уступите вы мечи свои, мужчины,
И позор вам, коль не скрою косы женские в бою».
Подтянул Итабанури своему коню подпругу,
В полночь вылетел к Телави и к рассвету кончил путь,
С ходу в замок он ворвался и вздохнуть не дал он другу,
– Помоги, Леван-батоно, и спасителем нам будь!
Десять сотен царь отправил, чтоб быстрее доскакали
Чтоб в пути светлее было, факел каждому зажег,
Мчались ночью, и подковы в темноте ночной блистали,
У Хитаны станом стали, помоги в бою им Бог!
Серый конь Итабанури на земле лежит, не дышит,
Рядом с ним сидит хозяин – женским плачем слезы льет,
Как траву врагов косили, в кучи клали скирд повыше,
Под Парсмою Алазани цвета красного течет».
Другой, хотя и мало отличающийся от вышеприведенного, вариант песни был записан в середине ХIХ в. А. Зиссерманом:
«Чрез вершину горы Качу-мта переходят многочисленные войска Нунцала (аварский хан)
Они, раскинув стан свой на Горевской равнине, превратили ее в запруженную реку.
Цовец, Давдриз Анта, не замедлил явиться к Нунцалу.
Этот велел поставить пред ним золотой поднос с кониной.
Сверху лежал ножик с насечкою и черенком из каменного угля.
Он ел и не насыщался (т. е. не чувствовал отвращения), потому что свыше ждал Божеской помощи.
Сведал об этом Итабанул (имя наездника), тотчас подковал своего серого (коня).
К рассвету он уже был в Гремах у царя Леона.
«Леон, царь наш! Пошли к нам войско.
Леон собрал войско в числе тысячи всадников.
Зажгли ночные факелы и в темноте проехали далекий путь.
Они проходят уже через гору Накавеча. Боже, пошли нам свое благословение!
Итабанулы серый конь в Накавечах пал бездыханен.
Около сидит хозяин и плачет над ним, как девушка.
Кто отважится пожертвовать собою, кто перейдет быструю реку Гиреви?
Вызвался молодец в синей рубашке.
Он должен быть из сынов, которого имя Андераз.
Сей перепрыгнул чрез быстрину реки на салхигурской лошади.
И накудауртским мечом изрубил палатку Нунцала.
Жена Нунцала взрыдала: что сталось с моим возлюбленным?
Нунцал убит Андеразом, и тело его коршуны унесли в когтях своих.
Заплакали лезгинки: не возвратятся к нам мужья наши!
Что будем делать с конями их, которые рвутся на поводьях?
Иные говорят: крепко запрем их в конюшнях.
Другие: пустим в горы.
А третьи: оседлаем наоборот и сами сядем на них.
Поедем в страну Тушети и там выберем себе мужей!..»
Как видим, и А. Зиссерман не избежал ошибок приведенных выше авторов – он ошибочно принял титул аварского правителя за его имя, хотя и правильно определил, что войско было аварское. Он же дал и небезынтересный комментарий к песне: «Для пояснения этой песни может служить следующее предание: аварский хан, Нунцал, вторгнулся однажды с многочисленным скопищем в Тушетию, чтобы поработить ее и обратить в магометанскую веру. До прибытия помощи от грузинского царя Леона, к которому был послан храбрец Итабанула, старшина тушинский Анта явился в лагерь Нунцала, уверил его в готовности тушин исполнить требуемое и для убеждения согласился есть конину. Между тем войско грузин успело перейти хребет, соединилось с тушинами, и лезгинская орда была разбита. В деревне Парсма хранится до сих пор небольшая пушка, отбитая, как говорят, у Нунцала».
Вскользь об этом сражении упоминает и лингвист Ю. Дешериев, который также опирается на устную традицию: «По преданию бацбийцев, их предки обратились к кахетинскому царю Леону (умер в 1575 г.) с просьбой о военной помощи в борьбе против нашествия аварского хана (в историческом предании его называют просто Нуцалом). Царь Леон решил оказать бацбийцам помощь. С большим количеством войск он направился в Горную Тушетию, где они жили. Враг был разгромлен. Царь Леон особой грамотой разрешил бацбийцам спускаться в Кахетию пасти овец, за что они должны были платить ему дань. С этого времени бацбийцы приняли покровительство кахетинских царей».
За исключением фольклора, грузинские письменные источники, по крайней мере доступные автору, не сообщают никаких сведений о походе аварского нуцальского дома на Тушети в ХVI в. Таким образом, выявить по этим источникам точную дату и имя аварского нуцала, предпринявшего неудачный поход на Тушети, не представляется возможным.
Письменные источники из Аварии
Вопрос в том, сохранились ли в Аварии сведения об этом походе, и, как оказывается, такие данные в местных арабоязычных источниках имеются. Выявлению и вводу их в научный оборот мы обязаны Т. М. Айтберову, который в нескольких статьях и монографиях затронул этот вопрос. В памятной записи, сделанной в 1660-х годах и содержащей материал по генеалогии аварского нуцала Умма-нуцала (он же Умма-хан), имеется информация о происшедшем в Мосокибе (согласно А. М. Дирру, аварцы называли тушин Мосок; оттуда и географический термин Мосокиб, который локализуется в Тушети; Т. М. Айтберов убедительно доказывает, что под этнонимом Мосок аварцы подразумевали Цова-Тушети, т. е. нахоязычных тушин) сражении с «неверными», в котором погибли два представителя нуцальского рода: Турурав по прозвищу Адалав (авар. – «безумец») и Барти (авар. – «жеребец»), сын Андуника (ГIандуникI – аварская форма греческого имени Андроник). Памятная запись, обнаруженная в сел. Арадерих Гумбетовского района, позволяет точно датировать это событие: 25 джумада ал-ахира 977 года хиджры (6 декабря 1569 г.) умер нуцал Аварии – Андуник, а 23 шаввала того же года (1 апреля 1570 г.) – «день, когда было разбито аварское войско». Андуник II упоминается в качестве нуцала Аварии в 954 (1547–48 г.) и 961 (1553–54 г.) гг. хиджры, а умер он в 1569 г. У него было два сына: Ахмад (упоминается в 954/1547–48 г.) и Барти (убит в 1570 г.), а также родной брат Турурав. Именно он вместе со своим племянником Барти в конце марта 1570 г. решили совершить поход на Тушети. Таким образом, аварский отряд под руководством Турурава и Барти прибыл в Тушети в последних числах марта, а 1 апреля состоялось решающее сражение, в ходе которого войско их было разбито, а сами они погибли: «среда двадцать третье [число месяца] шаввал – день, в который было обращено в бегство войско Авара».
Интересен также вопрос о том, кто все-таки командовал аварским войском и кого называют нуцалом или нуцал-ханом в тушинских преданиях? Скорее всего, им был Турурав, поскольку до 1646 г. титул нуцала Аварии отец сыну не передавал: «он переходил от старейшего в одной ветви нуцальского рода к старейшему в другой».
Возвращаясь к цели похода, отметим, что, согласно Т. М. Айтберову, ею была исламизация населения Тушети. Как следует из вышеприведенных материалов, есть и другая версия цели похода аварского нуцала, а именно сбор дани, в т. ч. якобы и девушек. Отметим, что вассальные отношения тушин по отношению к аварским нуцалам отмечены задолго до ХVI века. Согласно историческому сочинению «Тарих Дагестан», «владетель Аварии Байар (нуцал Байар правил в Аварии в конце ХI – начале ХII вв.), сын Сураки с титулом нуцал, бежал вместе с некоторыми из родственников, близких и их семей в область Туш, а они его раийаты (подвластные – Ш. Х.)». Произошло это вследствие того, что газийские (воителей за веру) отряды «опустошили сильнейший из городов Дагестана, резиденцию его владетеля – город, называемый Хумз, посредством принуждения и насилия и убили многих воинов и их помощников».
Одновременно источниками упоминаются эпизодические и, видимо, не вполне удачные попытки грузинских царей покорить Тушети. К примеру, в 1630-х гг. это попытался сделать кахетинский царь Теймураз: «Только ныне тою землею учел владеть государь их Теймураз царь».
Возвращаясь к теме нашего исследования, отметим, что все-таки в данном случае более вероятна версия о желании аварских нуцалов распространить ислам в Тушети. В то время аварскими нуцалами активно осуществлялась исламизация южных и юго-западных регионов Аварии, и, в принципе, исламизация Тушети как соседнего региона вполне вписывается в логику исторического процесса.
Интересен вопрос и о количестве воинов, принимавших участие в сражении. Известно только количество конных воинов, посланных царем Кахети Леваном в помощь тушинам, – одна тысяча. Учитывая, что, согласно данным русских послов от 1657 г., в Тушети насчитывалось около 8 тысяч жителей, а также то, что в силу ограниченности сельхозугодий численность населения Тушети, как и многих других горных регионов, практически не изменялась, можно приблизительно оценить количество тушин – воинов. На защиту родных ущелий, вероятно, встали около 2 тыс. тушин. Выяснить, какова была численность аварского войска, намного сложнее, и вряд ли вообще можно сколь-нибудь уверенно ответить на этот вопрос. Вероятно, их было не менее 2 тыс., но и не более 3 тыс., поскольку с меньшими силами отправляться в Тушети не имело смысла, так же как и привлекать к участию в походе более 3 тыс. человек, поскольку в Хунзахе хорошо знали демографический потенциал тушин, а на то, что к ним придут на помощь, судя по итогу сражения, нуцал не рассчитывал.
Джанашвили М. Известия грузинских летописей и историков о северном Кавказе и России. Описание Осетии, Дзурдзукетии, Дидоэтии, Тушетии, Алании и Джикети. СМОМПК. Тифлис, 1897. Вып. 22. С. 81.
Бардавелидзе В. В. Древнейшие религиозные верования и обрядовое искусство грузинских племен. Тбилиси, 2008. С. 28.
В данном предании титул аварского правителя опять же спутан с его именем. Также ошибочно определено происхождение войска, что, видимо, объясняется тем, что в Тушети оно спустилось из Шаройского ущелья Чечни, тогда входившего в состав Аварского нуцальства и населенного аварцами и чеченцами.
Кесело – название старого Омало – самого крупного поселения Тушети. Расположено Кесело на скальной гряде и состоит из башенных комплексов и укрепленных жилых строений.
Айтберов Т. М. Памятные записи из сборника №220 // Восточные источники по истории Дагестана. Махачкала, 1980. С. 122–126; Айтберов Т. М. Источники по истории Аварии ХVI–XVII вв. // Развитие феодальных отношений в Дагестане. Махачкала, 1980. С. 184–193; Айтберов Т. М. Нахоязычный район Мосок в ХVI – начале ХIX в. (Локализация и политические связи) // Вопросы исторической географии Чечено-Ингушетии в дореволюционном прошлом. Грозный, 1984. С. 56–60; Айтберов Т. М. Материалы по хронологии и генеалогии правителей Аварии (VIII–XIX вв.) // Источниковедение средневекового Дагестана. Махачкала, 1986. С. 150–152; Айтберов Т. М. Древний Хунзах и хунзахцы. Махачкала, 1990. С. 102; Хайдарбек Геничутлинский. Историко-биографические и исторические очерки / пер. с араб. Т. М. Айтберова, под ред. М. Р. Мугумаева, вступ. статья, комм. и общ. ред. В. Г. Гаджиева. Махачкала, 1992. С. 142–143 («Памятные записи, представленные нам Магомедгаджиевым Магомедом – кадием сел. Орота» в приложениях).
Дирр А. М. Современные названия кавказских племен // СМОМПК. Тифлис, 1909. Вып. 4. Отд. III. C. 4, 23.
Айтберов Т. М. Нахоязычный район Мосок в ХVI – начале ХIX в. (Локализация и политические связи) // Вопросы исторической географии Чечено-Ингушетии в дореволюционном прошлом. Грозный, 1984. С. 57–58.
Шихсаидов А. Р., Айтберов Т. М., Оразаев Г. М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. М., 1993. С. 102.